Детство Фаины Раневской
Фаина Раневская: детство в Таганроге, семья и одиночество
Фаина Раневская выросла в обеспеченной семье, где для неё не нашлось ни тепла, ни места. Детство в Таганроге стало временем одиночества, наблюдений и первых попыток прожить чужие голоса и интонации. Из этого опыта постепенно сложился характер, с которым она прошла всю жизнь.
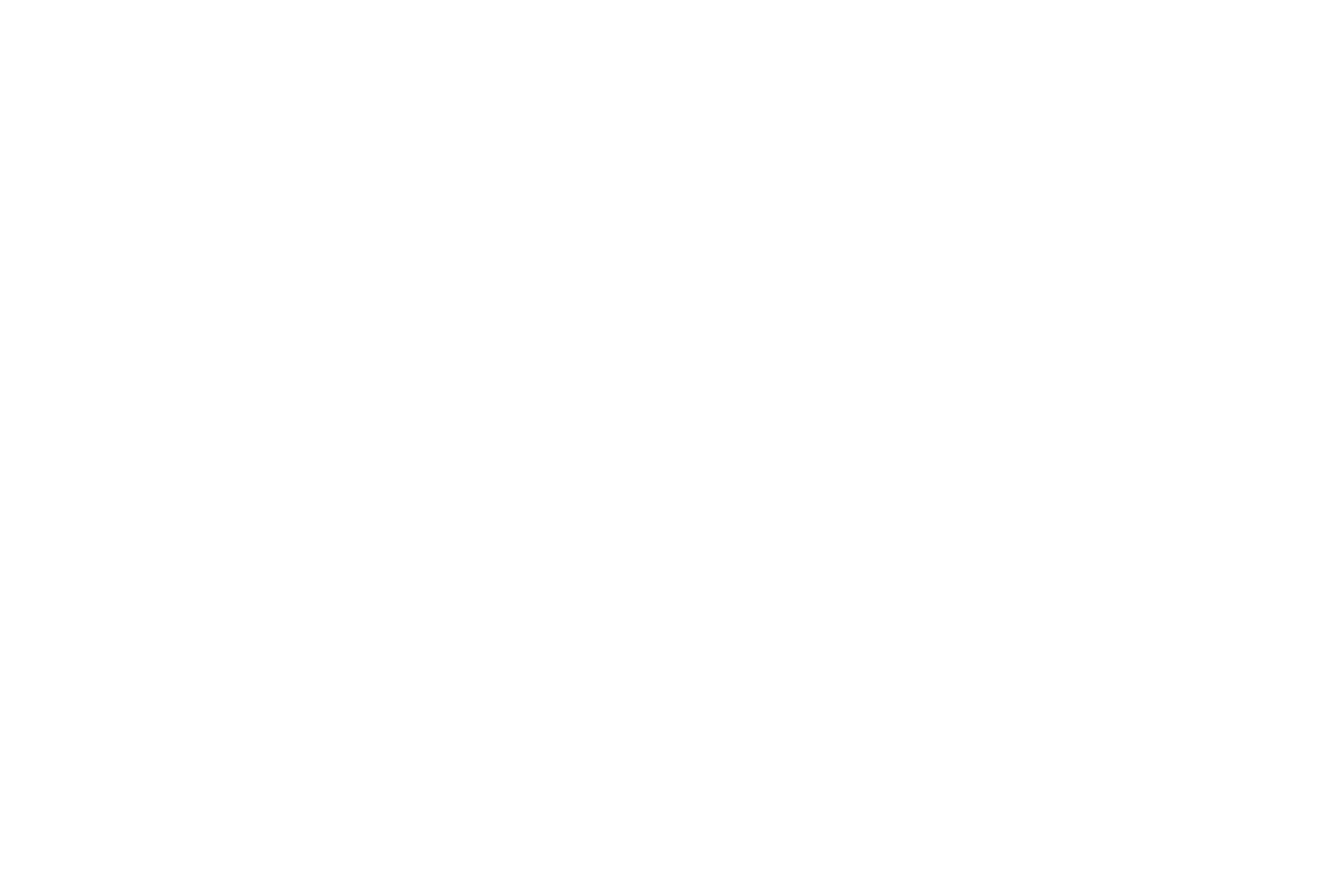
Детство Фаины Раневской прошло в Таганроге
Родилась Фаина Георгиевна не в столице, а в южном городе у моря — в Таганроге, где воздух полон ветра, соли и воспоминаний. Город этот был стар, нетороплив и достоин, и уже одно это накладывало на человека особую меру ответственности перед собственной жизнью. Быть землячкой Чехова — не заслуга и не вина, а обстоятельство, данное судьбой, как цвет глаз или тембр голоса. Родители сделали всё остальное.
Отец её, человек состоятельный и строгий, владел домами, делами, фабрикой и даже пароходом с благочестивым именем «Святой Николай». Но куда больший вес в детском сознании имел не пароход и не связи отца с большой историей, а дворник — человек простой, с медалью за мужество, с громким голосом и словами, которые нельзя было повторять вслух. В этом человеке было больше жизни, чем во всех отцовских активах, и потому он казался настоящим.
Детство её не знало покоя. Оно было наполнено наблюдением — за людьми, за голосами, за интонациями, за тем, как нищенка просит милостыню и как продавец мороженого кричит так, будто от его крика зависит судьба мира. Ребёнок не играл — он всматривался. Не повторял — проживал. И, не понимая ещё слова «искусство», уже жил в нём.
В доме, где было четверо детей, она оказалась лишней. Не любимицей, не надеждой, не продолжением рода. Некрасивая, заикающаяся, склонная к подражанию и фантазии, она не вписывалась в аккуратный порядок ожиданий. Там, где от детей требовалось послушание, она задавала вопросы. Там, где ценили память, она жила воображением. Это сочли ленью. Это назвали неспособностью.
В гимназии её не понимали, в семье — не принимали. Любовь матери была далёкой и недостижимой, страх перед отцом — постоянным. Когда умер младший брат, детское сердце впервые узнало настоящую потерю, ещё не зная слов, чтобы её назвать. И одиночество, впервые возникшее тогда, уже не покидало её никогда.
Иногда чужие дети находят спасение в няньках, в гувернантках, в ласке посторонних людей. У неё не было и этого. Бонны вызывали ненависть, а не привязанность. Желание быть услышанной, приласканной, принятой — не исполнилось. И потому она выбрала иной путь: не просить любви, а существовать без неё.
Когда человеку не к кому прислониться в детстве, он либо ломается, либо выпрямляется до боли. Она выпрямилась. Актёрство стало её единственным способом быть в мире и одновременно вне его. Быть увиденной, не будучи понятой. Быть любимой, не будучи близкой.
Одиночество ребёнка — самое тяжёлое из всех. Оно не объясняется поступками, не оправдывается ошибками, не смягчается опытом. Оно просто есть. И оно формирует человека сильнее, чем воспитание или образование. В её случае оно стало источником точности взгляда, жесткости интонации и той самой иронии, за которой всегда пряталась боль.
Позже вокруг неё было много людей, сцена, слава, роли. Но семьи — не было. После смерти той единственной женщины, что заменила ей мать уже во взрослом возрасте, одиночество стало окончательным и необратимым. Быть одной среди людей — тяжелее, чем быть одной на краю света. Там хотя бы честно.
Она не обвиняла родителей. Они жили так, как умели. Но жизнь, начавшаяся без опоры, не даёт привычки к теплу. И потому её судьба стала судьбой человека, который не искал утешения, не умел заискивать и не стремился быть понятным.
Так одиночество стало её характером.
А характер — судьбой.
Отец её, человек состоятельный и строгий, владел домами, делами, фабрикой и даже пароходом с благочестивым именем «Святой Николай». Но куда больший вес в детском сознании имел не пароход и не связи отца с большой историей, а дворник — человек простой, с медалью за мужество, с громким голосом и словами, которые нельзя было повторять вслух. В этом человеке было больше жизни, чем во всех отцовских активах, и потому он казался настоящим.
Детство её не знало покоя. Оно было наполнено наблюдением — за людьми, за голосами, за интонациями, за тем, как нищенка просит милостыню и как продавец мороженого кричит так, будто от его крика зависит судьба мира. Ребёнок не играл — он всматривался. Не повторял — проживал. И, не понимая ещё слова «искусство», уже жил в нём.
В доме, где было четверо детей, она оказалась лишней. Не любимицей, не надеждой, не продолжением рода. Некрасивая, заикающаяся, склонная к подражанию и фантазии, она не вписывалась в аккуратный порядок ожиданий. Там, где от детей требовалось послушание, она задавала вопросы. Там, где ценили память, она жила воображением. Это сочли ленью. Это назвали неспособностью.
В гимназии её не понимали, в семье — не принимали. Любовь матери была далёкой и недостижимой, страх перед отцом — постоянным. Когда умер младший брат, детское сердце впервые узнало настоящую потерю, ещё не зная слов, чтобы её назвать. И одиночество, впервые возникшее тогда, уже не покидало её никогда.
Иногда чужие дети находят спасение в няньках, в гувернантках, в ласке посторонних людей. У неё не было и этого. Бонны вызывали ненависть, а не привязанность. Желание быть услышанной, приласканной, принятой — не исполнилось. И потому она выбрала иной путь: не просить любви, а существовать без неё.
Когда человеку не к кому прислониться в детстве, он либо ломается, либо выпрямляется до боли. Она выпрямилась. Актёрство стало её единственным способом быть в мире и одновременно вне его. Быть увиденной, не будучи понятой. Быть любимой, не будучи близкой.
Одиночество ребёнка — самое тяжёлое из всех. Оно не объясняется поступками, не оправдывается ошибками, не смягчается опытом. Оно просто есть. И оно формирует человека сильнее, чем воспитание или образование. В её случае оно стало источником точности взгляда, жесткости интонации и той самой иронии, за которой всегда пряталась боль.
Позже вокруг неё было много людей, сцена, слава, роли. Но семьи — не было. После смерти той единственной женщины, что заменила ей мать уже во взрослом возрасте, одиночество стало окончательным и необратимым. Быть одной среди людей — тяжелее, чем быть одной на краю света. Там хотя бы честно.
Она не обвиняла родителей. Они жили так, как умели. Но жизнь, начавшаяся без опоры, не даёт привычки к теплу. И потому её судьба стала судьбой человека, который не искал утешения, не умел заискивать и не стремился быть понятным.
Так одиночество стало её характером.
А характер — судьбой.